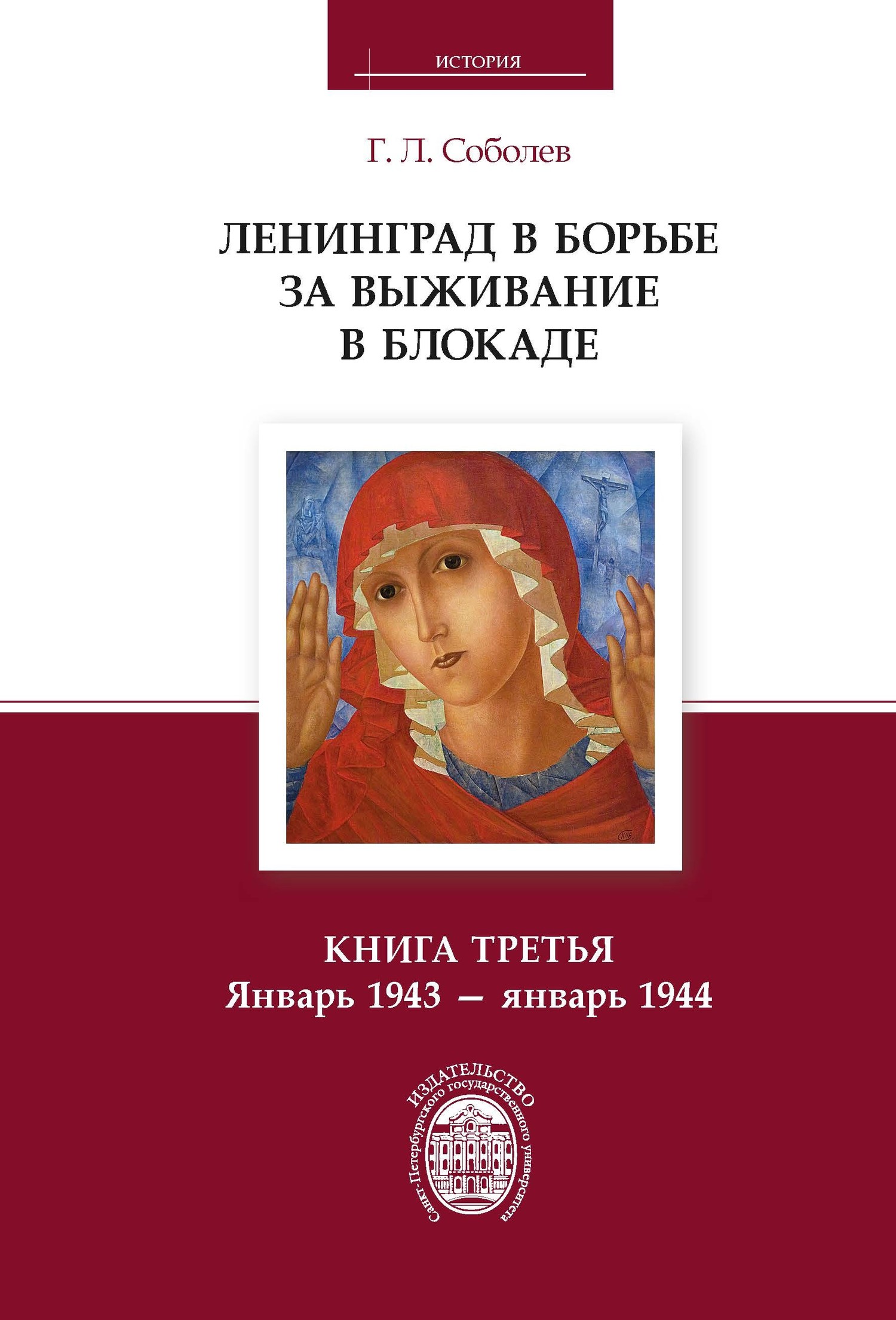Шрифт:
Закладка:
В районе Джанкоя, когда мы открыли бутылку и наполнили бокалы, в наше купе постучали. Вошли два суровых работника железнодорожной милиции, чтобы проверить, как мы ведем себя под воздействием алкоголя, ибо распитие спиртных напитков на украинских дорогах запрещено.
Изъяв документы у Е. (гражданки Беларуси) и покопавшись в паспорте Н. (выросшего в подмосковном городе Дзержинске), они перешли к моему паспорту под нескончаемый щебет Е. о наших героических усилиях в области поэтического самопожертвования.
В конце концов, маленький, с оттопыренными ушами, ткнув пальцем в строку паспорта с моей фамилией, произнес:
— Ваша фамилия Харченко?
— Да, — ответил я и заискивающе задергался.
— Вы родились в поселке Холмском Краматорского района Харьковской области в 1971 году?
— Да. — Я еще больше скукожился и закивал.
— Пойдем, Петро. Цэ наши гарны хлопци, — сказал маленький с оттопыренными ушами своему напарнику и хлопнул меня по плечу.
Впервые в жизни я получил преимущества от того, что являюсь русским украинского происхождения, забывшим язык, но сохранившим фамилию!
Платон Беседин
Последняя крепость
I
Набираю морскую воду в ладони, сложенные, будто для милостыни. Втягиваю носом и выпускаю через рот. Вода превращается в пену. Она пузырями идет изо рта, как у бешеной собаки. Сморкаюсь, чтобы вышвырнуть из себя болезнь, напрягая пазухи. Нет облегчения. Лишь сильнее ноет лоб, только резче пульсируют виски.
Надо возвращаться. Он ждет. Нельзя оставлять его одного. И себя нельзя. Иду к нему по плоским булыжникам вдоль берега Черного моря, не обращая внимания на брызги волн, разбивающихся о камни и падающих веером сверху. Точь-в‑точь как фонтаны на городской площади.
Вижу сначала сизый дым, потом — костер. Рядом недвижно сидит мальчик, одетый в оранжевый комбинезон. В нем он похож на спасательный буй. Машу мальчику рукой, словно отец сыну на линейке 1 сентября. Выдавливаю улыбку. Она стоит боли. Ему это нужно.
Подхожу к костру. Достаю из красного пакета бутылку с газированной водой, колбасу в пленке, йогурт. Все вскрытое, начатое. Говорю мальчику:
— Ешь.
— Не буду.
— Ты должен есть, иначе умрешь.
— Я и так умру.
— Хорошо, тогда я съем йогурт и буду жить сам.
— Нет, — мальчик забирает красно-желтый пластик, — мы должны быть вместе.
Он принюхивается, как щенок. Ест, запрокинув банку с йогуртом.
Отхожу в сторону, пытаюсь высморкаться. Ощущение, словно качаешь насосом шину; только вместо шины собственная голова. Сгустки бурого гноя с кровью падают на выбеленные камни. Мальчик отрывается от йогурта:
— Тебе нужны лекарства.
— Знаю, но не сейчас.
Мальчик облизывает крышку от йогурта, говорит:
— Холодно. Идем домой.
От слова «домой» боль усиливается.
— Позже. Дыши морским воздухом. Это полезно для здоровья.
Он хмурится:
— Для чего мне здоровье?
— Чтобы жить. Ешь. А я проверю местность.
Хватаясь рукой за камни, поднимаюсь на уступ. За ним начинается пустошь, поросшая колючим кустарником и серо-зеленой полынью, испещренная шрамами канав, заваленная строительным мусором. Крымский пейзаж. Еще дальше — остовы строений. Там никого нет, даже таких, как мы.
Голова кружится, взлетает и падает, словно подпрыгивает на батуте, отделенная от тела. Как в школе (мы называли это состояние «вертолет»), когда напьешься пива и ложишься спать, пока родители не видят, но лежать не можешь — мутит. Разводы перед глазами, будто масляные круги на воде. И пульсация в огненных висках, бешеная пульсация. Нужны лекарства. Но они, если повезет, будут только завтра.
А пока — повторять позитивные установки, аффирмации, из книги Луизы Хей. Ее — большое красное сердце на мягкой синей обложке — подарил мне сосед по палате, грустный толстяк с сальным лицом.
Согласно Хей, метафизическая причина насморка — обиды. Надо простить — давно пора — жену, мальчика, себя, жизнь. «Я прощаю себя и всех людей. Я люблю и одобряю себя». Слова бегут белыми буквами — так учили запоминать в школе — на черном экране сознания. Говорю вслух, резко, словно проклятия. Возвращаюсь.
Мальчик пьет газировку. У нее едкий — можно подавать сигналы с берега — зеленый цвет. На песочной куче крестом выложены голыши. Из песка торчит ветка.
— Что это?
— Мой храм.
— Надо идти домой.
Складывая остатки продуктов в пакет, задеваю кучу. Ветка падает. Футболю голыши носком рваной кроссовки. Один улетает в море, плюхает. Повторяю:
— Идем.
Не двигается. Едва слышно, заикаясь, как всегда, когда нервничает, шепчет:
— Т‑т‑ты разрушил мой храм.
Его левая щека дергается. Глаза влажные. Кулаки сжаты. Вот-вот ударит.
— Надо идти! — стараюсь говорить уверенно, но звуки слабые, шипяще-свистящие.
— З‑з‑зачем ты разрушил мой храм?
— Прости, я не знал, что это твой храм. Нам правда надо идти. Скоро они будут здесь.
— Поэтому я и построил свой храм.
— Это поможет?
— Поможет, — уперто говорит он, и кулаки разжимаются, глаза блестят. — Пообещай мне, что больше мой храм не разрушат.
Никогда я не видел его таким сконцентрированным, серьезным.
— Обещаю.
— Честно?
— Честно. Обещаю.
Он улыбается:
— Тогда идем. Я построю новый храм.
По камням мы поднимаемся на уступ и молча бредем к нашему дому.
II
Его основа — обгоревший строительный вагончик. Он облеплен клеенкой, брезентом, линолеумом. Рядом чернеет пепелище костра. Есть еще умывальник с пробитой раковиной. Мы живем как короли. Короли из трущоб.
Открываю дверь вагончика. Мальчик спрашивает:
— Мы будем обедать?
— Ты только что ел.
— Хочу еще.
— Нам надо экономить продукты.
Молчит, опускает голову, всхлипывает. Не понимает, что еды осталось на два-три дня. Но ему надо есть. От этого никуда не деться. Он и так стал похож на фабричного цыпленка: худой, бледно-синий, с торчащими костями.
— Хорошо, — треплю его по жидким соломенным волосам, — мы пообедаем.
— Честно, честно?
— Конечно. Тебя устроит суп?
Он кивает головой так сильно, что, кажется, она вот-вот отделится от шеи.
— Отдохни, а я приготовлю суп, — захожу в вагончик. На полу, застеленном кусками линолеума и лохмотьями, свалены полосатые матрасы с торчащим желтым поролоном.
— Я не устал, — надувается.
— Тогда пошли готовить вместе.
Уже привык к его переменам настроения, но сейчас они невыносимы. Сейчас время ожидания, а значит, время тревоги, беспокойства. Из-под валуна, поросшего липким зеленым мхом, достаю полиэтиленовый пакет с картофелем.
— Чисти картошку.
— А ты? — говорит мальчик.
— Я разожгу костер.
Деревянные с серой спички, бумажные со свинцом газеты. Поджигаю, приношу из вагончика хворост, кормлю зачавшееся пламя. На алюминиевой кастрюле — толстый слой копоти. Суп будет из отстоянной морской воды. Пресной почти не осталось. Только чтобы пить.
— Опять
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)